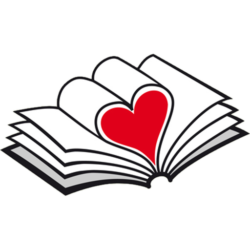О белорусском менталитете, человеческих ценностях и о том, как улучшить белорусское образование, разговариваем с Дмитрием Макарчуком и Сергеем Бородичем — молодыми учителями, которые не жалуются, а действуют.
Встречу пришлось назначать на раннее утро: сложно было найти общее время в плотных графиках и ребят, и моём. Приехала на встречу чуть раньше и, стоя на крыльце лицея БГУ, вспоминала свою педагогическую деятельность в школе. Коллеги когда-то с улыбкой называли меня максималисткой и обещали, что с возрастом это пройдёт. Прошло ли? Не уверена. А может, просто ещё не настал тот самый возраст, когда должно пройти… Примерно в таком настроении я ожидала встречи с теми, у кого этот максимализм тоже имелся в наличии и пока проходить не собирался. Даже наоборот, требовал выхода и решительных действий.
Дмитрий появился из дождя неожиданно, сразу деловито повёл меня в здание лицея, организовал рабочую обстановку и замер в ожидании интервью. Первым вопросом, который я задала молодому филологу, был почти стандартный: «Почему школа, Дмитрий?». Наверное, мужчинам – преподавателям пора к нему привыкнуть, но Дмитрий, как мне показалось, был удивлён.
«Я учился на журфаке, но был отчислен на третьем курсе из-за того, что ходил на занятия только к трём преподавателям, занятия которых мне были интересны. К остальным я ходить отказывался, поэтому меня в конце концов и отчислили», — улыбается Дмитрий. «И что же дальше?» — спрашиваю я. «Дальше пошёл работать на интернет-телевидение. Сначала был инженером видеомонтажа, потом редактором интернет-ресурса. Начал задумываться о смысле образования: если работодателя не интересует твой диплом, ему важно, что ты знаешь и умеешь делать – твои навыки, — объясняет Дмитрий, — Мы с Сергеем раньше каждое лето работали в детском оздоровительном лагере имени Гастелло и общались с детьми, так сказать, в неформальной обстановке. И это было здорово! Вот и начали приходить мысли о том, как можно объединить альтернативное и формальное образование».
«Хорошие мысли, — думаю я, — И главное, что просто мыслями не остались». Дмитрий продолжает: «Поступил в Вильнюсский педагогический университет на факультет филологии. Закончил».
К нам присоединяется Сергей. Озадачиваю его тем же вопросом, что и Дмитрия: «Почему преподавание?» «Моя мама – кандидат педагогических наук, сотрудник кафедры начального образования Национального института образования. Я с детства в этой среде вырос. Помню, как она ночами над учебником работала: вечером ложусь спать – у неё в комнате свет горит, она работает, утром встаю – свет ещё горит, мама не ложилась, — отвечает он, — А филфак потому, что филологическое образование по объему шире педагогического».
«А как родилась идея начать поднимать белорусское образование в глубинке?» — спрашиваю я.
«Почти случайно, — отвечает Дмитрий, — возвращались с концерта «J:Mорс» из Молодечно с компанией. А так как в компании были одни учителя, то говорили об образовании: о том, как сделать его более гуманным по отношению к детям. И вот решили начать действовать — поехать преподавать в деревню». «Надо же, — думаю я, — импульсивные решения на основе патриотизма всё же нам свойственны: Тадеуш Костюшко, после полуночных задушевных разговоров о родине, утром возглавил восстание, а ребята стали искать места в сельских школах. Сарматская кровь в наших жилах за века не размылась».
«Сложно было найти сельскую школу, которая согласилась бы взять сразу двух филологов: учителей русского и белорусского языка. Обычно в таких школах нагрузки учителям не хватает, поэтому они ведут по нескольку разных предметов, — повествует Сергей, — Но нашли такую школу в Копыльском районе, агрогородке Жилихово. Приехали, обустроились, и нас сразу же ждал шок: многие наши заходные методические задумки, которые, как мы думали, будут здесь актуальны, не пригодились – от учителей здесь требовалось несколько иное. В деревне совсем другие отношения. Мы, городские, своих соседей по подъезду годами не знаем, а там всё на виду – все обо всех всё знают».
«На самом деле среда воспитывает больше, чем учителя, которых ребёнок видит 4-5 часов в школе, — продолжает мысль Дмитрий, — Ребёнок в деревне не рискнёт себя плохо вести, ведь антисоциальное поведение там не скроешь: ему и замечание любой взрослый сделает, и родителям обязательно передадут, а родители меры примут, им же тоже перед соседями стыдно. А в городе по-другому».
«Сельские дети самостоятельнее и ответственнее, дело в том, что с самого детства они на равных разделяют обязанности хозяев дома, т.е. их не нужно учить трудиться: условия жизни, в которые они поставлены, обучают их этому сами, — добавляет Сергей, — Интерес к гаджетам у них меньше, больше живое общение предпочитают, несмотря на то, что есть у них и смартфоны, и интернет. У них просто другой подход к жизни».
«А расскажите, пожалуйста, про своё соглашение с детьми!» — прошу я.
«Да, было такое — отвечает Дмитрий, — Дети же тоже должны иметь настоящие права, а не только обязанности. Хотя скорее мы озвучили, что, на наш взгляд, с их стороны мешает им развиваться как классу: сюда входит не только подготовка к занятиям – многие «человеческие» / коллективообразующие пункты здесь тоже были».
«И что вам приходилось делать согласно этому договору?» — спрашиваю я.
«И в волейбол с ними играли, и в Минск ездили, и мероприятия разные проводили. Но ни мероприятия, ни всё остальное не входили в их пожелания: договор касался жизни внутри класса., — отвечает Сергей, — Ведь детям важно, чтобы с ними не только предметами занимались. Детям нужно и человеческое участие, уважение и доверие. Вы даже не представляете, как они на него отзываются! Одна девочка, спортсменка с серьёзными достижениями, не особо интересующаяся учёбой, после того, как за участие в школьной игре «Что? Где? Когда?» получила книгу «Ромео и Джульетта», прочитала её всю от корки до корки. Она её потом постоянно цитировала. И ей это нравилось!»
«Вы не подумайте, что мы единственные в школе такие были, кто детьми вне уроков занимался», — добавляет Дмитрий, — «Там были учителя, которые вкладывали душу в детей. И учитель физкультуры, и учительница начальных классов – они в своё свободное время детей готовили, а потом ещё и на своей машине их на конкурсы разные возили. Там не «голая земля» в этом плане была. На самом деле есть у нас такие учителя, которые работают потому, что любят и детей, и свою профессию. Они постоянно учатся, совершенствуются. Я вообще не видел ни одного человека, который бы плохо занимался любимым делом. Мы освещали свою работу в сельской школе в интернете, поэтому такие учителя находят нас, пишут, и мы им очень рады, — ведь вместе можно сделать больше, чем поодиночке».
В голову приходят не один раз слышанные жалобы одних: «Вот государство сделает учителям достойную зарплату, тогда будем что-то делать» и постоянное стремление придумать что-то новое и интересное, поддерживаемое бесчисленными курсами, других. И ведь не скажешь же, что на старте карьеры кто-то из них получал больше. От людей это, похоже, зависит – одни хотят сначала получить, а другие – реализоваться.
Словно уловив мои мысли, Дмитрий говорит: «У белорусов менталитет такой – видишь: что-то не так, как надо, — возьми и сделай правильно».
«И не надо разглагольствовать и хвалиться при этом, — добавляет Сергей, — Сейчас столько негатива выливается на образование, что через его стену сложно пробиться. Но ведь жалобами ситуацию не решишь, поэтому каждый человек, претендующий на компетентность, садясь к монитору, должен понимать, что, если без его комментария мир не рухнет, ему стоит закрыть рот и работать молча».
«А как вы хотите её решать?» — спрашиваю я.
«Действиями, — отвечают ребята, — Сейчас ищем 30 добровольцев — энтузиастов, которые готовы отправиться работать в сельские школы, чтобы поднимать качество образования на местах. Это и есть идея, которая, надеемся, сложится в проект «Учитель для Беларуси» — аналог международного проекта Teach For All», — говорит Дмитрий.
«А потом?», — прошу продолжить мысль я в надежде узнать, чем же должен завершиться проект.
«Потом их станет больше. И сообща мы сможем наладить диалог и с районными отделами образования, и с областными, и с министерством. — уверенно отвечает Сергей, — цель проекта – создание адекватного медиаполя вокруг профессии учителя; когда в школу придут люди, одержимые своим делом, и мы это покажем, все перестанут плевать в сторону педагога и считать нашу профессию второсортной».
«Цель, достойная настоящих мужчин», — думается мне.
Но время, выделенное для беседы, подошло к концу. Я поблагодарила молодых учителей за беседу и, уже попрощавшись с ними, попробовала разобраться в собственных чувствах. С одной стороны, мой опыт работы в системе утверждал, что всё это юношеский максимализм, обречённый на медленное угасание с течением времени, а с другой, никто точно не знает, сколько продлится это «угасание»: 2 года, 5 лет, 25 или 50? А ведь даже за 10 лет можно сделать очень много. Готовы рискнуть? Тогда присоединяйтесь к проекту «Учитель для Беларуси»!
08/12/2018
Ещё интересные материалы:
 |
Летние лагеря в Минске и не только. Лето 2019 |
 |
Soft skills — что это и для чего нужно? |
 |
Поколение Z: как их понять?
|